23.09.2023 17:41
Позиция атрибута и одушевленность существительного в текстах древнерусского красноречия XI–XIII вв. Часть 1
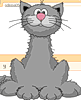
Аннотация. Автор выясняет зависимость положения атрибута от одушевленности определяемого им существительного в памятниках древнерусского красноречия XI–XIII вв. В результате анализа было установлено, что в словосочетаниях с одушевленным существительным притяжательные местоимения тяготеют к постпозиции.
Ключевые слова: атрибутивное словосочетания, древнерусский язык, порядок слов, древнерусское
красноречие, одушевленность существительного.
Наряду с агиографическими, историческими и богословскими сочинениями средневековой литературы важное место занимали памятники древнерусского красноречия. Т. В. Черторицкая отмечает, что жанры древнерусского красноречия достаточно сложно поддаются классификации, однако два из них - поучение и слово – наиболее распространенны в письменной традиции и признаны многими исследователями [2; 9].
Материалом нашего исследования послужили пять памятников древнерусского красноречия: «Поучения Феодосия Печерского», «Слова и поучения Серапиона Владимирского», «Поучения к простой чади», «Слова и поучения Кирилла Туровского». К ним же, по мнению Т. В. Черторицкой, относится и «Слово о полку Игореве» [2; 13], которое мы также привлекли для анализа.
В отличие от современного русского языка определение в древнерусском языке могло находиться как перед, так и после определяемого слова. Лингвисты по-разному определяли принципы расположения компонентов атрибутивного ряда. Так, ряд ученых, к которым принадлежит Л. А. Булаховский [1], отмечает, что определение в древнерусском языке тяготело к препозиции; другие медиевисты, одним из представителей которых является О. А. Лаптева [3], напротив, были сторонниками исконной постпозиции атрибута. В. З. Санников [5] и А. А. Уржумова [6] считают, что на расположение компонентов атрибутивного ряда свое влияние оказывает частеречная принадлежность атрибута: так, качественные и относительные прилагательные, порядковые числительные, определительные и указательные местоимения тяготеют к препозиции, тогда как притяжательные прилагательные, притяжательные местоимения, напротив, были постпозитивны. Позже были обнаружены другие факторы, влияющие на позицию атрибута: Д. Ворт выдвигает гипотезу, что при одушевленных существительных атрибут располагается в постпозиции, а при неодушевленных – перед определяемым словом [7]. Ф. Р. Минлос в статье «Что притягивает притяжательные местоимения?», опираясь на своего предшественника Д.Ворта, определяет, что на позицию атрибута, выраженного притяжательным местоимением, свое влияние оказывает и предлог, который «перетягивает» атрибут в препозитивное положение [4].
Для исследования мы привлекли не только притяжательные местоимения, но и прилагательные (всех разрядов).
Притяжательное местоимение свои, к примеру, раба своего (СлКТ, 200), своего брата (ППЧ, 286), чаще всего находится в постпозитивном положении (48 случаев препозиции: 64 постпозиции). Суждение Д. Ворта о том, что при одушевленном существительном притяжательное местоимение находится в постпозитивном положении, подтвердилось [7]. Однако стоит отметить, что преобладание постпозиции наблюдается и при неодушевленных существительных. Проанализировав зависимость местоименного атрибута от наличия / отсутствия предлога, мы отметили, что в текстах поучений предложных атрибутивных конструкций с местоимением свои в 4,8 меньше, чем беспредложных (19:93), однако предлог чаще употребляется с неодушевленными существительными: 4 предложные конструкции с одушевленным существительным – 15 предложных конструкций с неодушевленным существительным.
Так же, как и в конструкциях с местоимением свои, атрибут, выраженный местоимением мои (Исусе мой (СлКТ, 164), душа моя (ПФП, 442), тяготеет к постпозитивному положению (общее число постпозитивных конструкций превосходит в 2,2 раза общее число конструкций с препозицией: 46:21). Это же можно установить и в текстах поучений по-отдельности, за исключением «Поучений Серапиона Владимирского», где атрибутивные словосочетания представлены одинаковым количеством конструкций, и «Слова о полку Игореве», где всего одна препозитивное словосочетание. Предложных конструкций нами было извлечено в количестве 7 единиц. Здесь мы видим, что так же, как и в атрибутивных конструкциях с местоимением свои, словосочетания с местоимением мои чаще употребляется с неодушевленными существительными: 2 предложные конструкции с одушевленными существительными: 5 предложных конструкций с неодушевленными существительными.
Рассмотрев атрибутивные конструкции с притяжательным местоимением твои, мы можем заключить, что данный атрибут также тяготеет к положению после определяемого слова (10 препозитивных конструкций: 36 - постпозитивных). Предложных конструкций нами было извлечено в количестве 7 единиц, что 6,6 раз меньше, чем беспредложных. Примечательно, что в предложных словосочетаниях определяемое слово – исключительно неодушевленное существительное. Что касается беспредложных словосочетаний, то отметим, как и в предложных конструкциях, определяемое слово чаще является неодушевленным именем существительным (8 конструкций с одушевленным существительным: 31 – с неодушевленным). Атрибут при одушевленном существительном тяготеет к положению после определяемого слова, однако преобладание постпозиции наблюдается и при неодушевленных существительных.
О.С. Казаковцева
Продолжение следует

| Опубликовано 23.09.2023 17:41 | Просмотров: 251 | Блог » RSS |